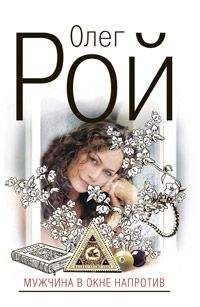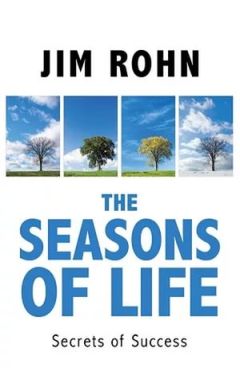Только не|мы (СИ) - Толич Игорь
Андрис не говорил об этом вслух, но я понимала, что решение встречать Рождество вдали от дома далось ему нелегко. Я хотела ехать с ним, но он попросил меня остаться. В Дрездене жил его друг, Алексис, с которым Андрис редко виделся последние годы. Ради него он и ехал. Алексис служил католическим пастором и ничего не сообщил прямо во время своей просьбы, но Андрис догадался сам.
— Алексис умирает, Илзе, — пояснил Андрис на мой вопрос, почему мне нельзя поехать с ним. — Он всегда говорил, что отдаст богу душу на Рождество. Боюсь, он не ошибался. Как истовый католик, он отказался от госпитализации и просто ждёт блаженного слияния. По земным меркам, он ещё молод. Но прожитые годы каждый наполняет собственным смыслом. Жизнь Алексиса была наполнена богом от первого дня и будет наполнена до последнего. Я не имею права вмешиваться. Всё, что я могу, это исполнить его последнюю просьбу и приехать, чтобы попрощаться.
Я тоже не хотела перечить решению мужа. Он стремился оградить меня от скорбных мыслей в столь светлый праздник. Мыслей, которых не избежит сам. И мне не оставалось ничего другого, кроме как отпустить его к другу, а нынешняя вечеринка должна была стать нам всем своего рода заменой настоящему Рождеству. Андрис и прежде уезжал на концерты один, но обычно возвращался в ту же ночь или на следующий день. Сейчас он ехал на неопределённый срок, и мне по-своему было тоскливо расставаться с ним.
Чтобы отвлечься, мы много говорили друг с другом в тот вечер. Андрис спрашивал, как идут дела с моим новым романом.
— Честно сказать, неважно, — ответила я, нисколько не кривя душой. — Знаешь, мне сейчас стало казаться, что я перебрала все сюжеты. А раньше казалось, что они никогда не закончатся. Я смогу придумывать бесконечно. Но я ошибалась. Что-то мне теперь видится глупым, что-то — чересчур надуманным. А хочется писать только настоящее.
— Что для тебя настоящее?
— Разумеется, то, во что я сама искренне верю.
— Например?
Я призадумалась.
Андрис каким-то непостижимым образом всегда умел быть проницательным и деликатным в разговоре со мной. Вместе с тем он порой ставил меня в тупик, а я сердилась, что не могу так же виртуозно манипулировать словами вслух, как делаю это в книгах. Однако живые диалоги делали для меня много больше: не только запутывали и огорошивали, но и проясняли мне важные вещи.
Год назад, когда мы познакомились с Андрисом во время органного концерта, я также проходила через творческий кризис. Но наша взаимная любовь и ни на что непохожая дружба привели к тому, что я одним махом всего за месяц дописала роман, который валялся у меня незаконченным долгое время, потому что я словно потеряла связь со своими героями, не понимала уже, кто они и к чему придут. Они заварили кашу, точнее — я её заварила, а достойно расхлебать не смогла.
Законченное же произведение стало практически сразу бестселлером. Я отдала ему, вложила в него всё, что выстрадала за всю жизнь.
Пестов оборвал мой телефон сначала с восторженными криками, а теперь уже просто с криками, потому что с тех пор я не написала ни строчки. Сергей умолял написать сиквел или дать хоть что-нибудь, что можно удачно «воткнуть», как он выражался, под бурную струю читательского интереса, пока та не стихла окончательно. Но питать эти струи мне было нечем. Я сама будто высохла и умерла как писатель.
— Я верю в любовь, Андрис, — сказала я. — Верю непорочно, но с каждым годом она для меня становится чуточку дальше — возвышаясь и удаляясь куда-то ввысь от земного. Будто лишь бог знает, какая она в самом деле и что собой представляет, а я — не знаю совсем.
— Так и должно быть, — уверенно кивнул Андрис.
— Ты думаешь?
— Конечно, — он снова кивнул. — Природу любви так же тяжело объяснить, как природу бога. Да, существует огромное количество разных версий. И некоторые из них весьма экзотические. Лично я полагаю, любая версия имеет право на жизнь, при этом все они несовершенны. Но, чтобы их объединить, потребуется узнать абсолютно всё. А это, как известно, невозможно. Но, вообще-то, и не нужно. Достаточно смотреть на это так: если и любовь, и бог одинаково необъяснимы и разнообразны, быть может, они являют собой одно и то же?
— Бог и есть любовь?.. — переспросила я с сомнением.
— Скорее любовь и бог просто неотделимы.
— Тогда как о ней можно писать? — совсем расстроилась я.
— Как угодно. В том-то и фокус, что написать ты можешь о любви, как чувствуешь сама.
— А не будет ли это богохульством? — улыбнулась я.
— Конечно, нет, — Андрис мягко обнял меня и поцеловал в макушку. — Ведь ты сама — ангел.
Одно его присутствие рядом действовало умиротворяющее, а слова поддержки наполняли вдохновением. Только ради Андриса я готова была вновь сесть за текст, чтобы доказать и ему, и себе, что я всё ещё на что-то гожусь, помимо украшения ёлки и траты денег, которые теперь почти не зарабатывала. Если бы могла, я бы вместила в свои книги всю ту нежность, что получала от Андриса, его мудрость, его спокойствие и здравомыслие. Его ощущение абсолютной любви, которую он выражал через музыку, мне хотелось бы выразить словом.
Однако Андрис повторял вновь и вновь, что лишь сама музыка — и есть вершина чувственного выражения. Я могла довольно подробно описать устройство органа и то, как Андрис, уплыв в бесконечность духа, касается клавиш мануалов, уходящих один за другим вверх искусной террасой подобно садам Семирамиды. Как ноги его плавно утапливают большие широкие педали, и трубы, подчиняясь его движениям, звучат на все голоса — от самых низких, почти утробных, драматических, до высочайших, поющих жалостливо и возвышенно. Но ничто из этого не будоражило моё воображение настолько, чтобы создать целостный сюжет — музыкальный и влюблённый, пронизанный истинным чувством. У меня попросту не было сюжета.
— Отпусти себя, — сказал Андрис, вороша мои волосы и глядя в камин.
Тот, будто древний очаг, пусть искусственный, с ненастоящим пламенем, всё-таки согревал и не только нас, сидящих на полу, но и наших библейских героев, которые будто ещё не знают, что пройдёт целых две тысячи лет, а их по-прежнему будут вспоминать и обогревать огнём любви.
— Отпусти себя и не тревожься, — повторил Андрис. — Если снова позвонит Сергей, пока не бери трубку. У тебя есть право хранить молчание не только на суде. В любой момент ты вправе ненадолго замолчать без объяснения причин. Мы все живые. И что-то приходит к нам само, что-то мы привлекаем. Но иногда надо прекратить гонку. В конце концов, у твоего издателя есть отличная книга, которая хорошо продаётся. А его жажда заработать как можно больше может всех довести до нервного срыва. Для начала верни себе сон, Илзе. Вдохновению тоже нужны сны. Поэтому идём спать.
Конечно, сон ко мне пришёл спустя несколько долгих обессиленных часов. Возможно, действовали новые таблетки, которые я принимала. А может, моё тело уже было изнурено настолько, что и не засыпало вовсе, а лишь теряло сознание на какое-то время. Снов я не видела. Видела черноту и начисто переставала думать. Впрочем, даже такой отдых действовал благотворно.
Утром я встала отдохнувшей. Повторно созвонилась с ресторанами и уточнила, что основные блюда, десерты и закуски приедут к назначенному времени.
До середины дня я кружила по кухне, готовя традиционные пипаркукас. Эти сладко-пряные печенюшки любят в Латвии и Эстонии, в Финляндии и Скандинавии. Рецепт простой, как всё гениальное. Нужны лишь правильные специи и рождественское настроение: одна палочка корицы, треть от целого мускатного ореха, щепотка сушеного корня имбиря, четыре коробочки кардамона, два соцветия гвоздики, парочка горошин чёрного перца и столько же душистого. Всё это богатство кладут в кофемолку и превращают в тончайшую ароматную пыль, от которой может легко закружиться голова, если вдохнуть невзначай, открывая крышку. Остальные ингредиенты — самые обычные: мука, сливочное масло, яйца, мёд, вода, соль и сода. Конечно, пропорции и соотношение у каждой хозяйки свои. Да и на вид пипаркукас могут быть самыми разными: более тонкие и оттого более хрустящие; пухленькие, больше похожие на пряники; крупные нарядные пипаркукас в толстом слое глазури как настоящие пирожные; или совсем миниатюрные, напоминающие крекеры, только сладкие, с терпким медово-перечным ароматом.